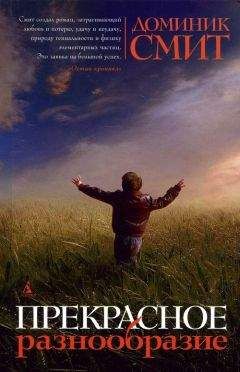Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
— Еще чего не хватало! — вскинулась Салямуте. — Ноги их здесь не будет, в моей горнице! А если тебе, мамаша, хочется, если тебе здесь не нравится, то иди с письмом к своим хорошим сыночкам…
Взглянула старуха на Салямуте, на Пятнюнаса, покачала головой.
— Читай, зятек, — сказала тихо.
— «Прости, матушка, своего младшего сына, не хотел я быть под башмаком у Дамуле, вот и ушел. Может, больше не увидимся на этом свете, я буду помнить тебя, помолюсь. И ты, мамаша, помолись. А Салямуте спасибо, что отцовы золотые хорошо завернула в рогожу, не заржавели, хватило мне и на билет, и еще купил я сапоги с голенищами…»
Пятнюнас перестал читать. Повернулся к Салямуте, пораженный, смотрел на нее разинув рот; на лице его выступили красные пятна.
— Читай ты, читай, — заерзала старуха. — Чего замолчал на самом главном месте? Какие там золотые, кто завернул?
— Салямуте! — жестко произнес Пятнюнас.
Салямуте фыркнула, надвинула на глаза платок.
— Так-то ты со мною, Салямуте?
— Ну, чего не читаешь, что стряслось? — встревожилась старуха. — Ничего не пойму.
Пятнюнас с трудом проглотил слюну, стал читать дальше:
— «А Подерису скажи, чтобы покачался в моей бричке, когда будет плакать по своей доченьке. Мы оба с Уршулите теперь в Гамбурге, дорогой повенчались и садимся на пароход, поплывем по морю. Страшно будет, но с Уршулите и море неглубоко. И больше мы не вернемся. Подерис обоих бы убил. Мамаша, опять я прошу, прости своего сына, а после еще напишу, когда разживусь и деньги будут. Уршулите кланяется тебе в ноги, и я целую твои белые руки. Сын твой Повилёкас Дирда».
Совсем тихо стало в избе. Салямуте понурила голову, тыкала вязальной спицей в край стола. Молчала и старуха, видать, поняла, что это за золотые. Пятнюнас встал, хотел что-то сказать, но, покомкав в руках шапку, пошел к двери.
— Так уходишь? — обратилась к нему старуха. — Посидел бы с нами, не чужой ведь, чтобы в беде оставлять…
— Может, и чужой, — приостановился тот у двери.
Старуха взглянула на Салямуте, укоризненно покачала головой, опять обратилась к будущему зятьку:
— Когда все хорошо, тогда и чужой пожалеет, а пришла беда, и свой нос воротит. Куда же ты убежишь, где тебе теплее будет? Сядь, посидим, посоветуемся по-людски.
— Не приходится рассиживаться.
— Мамаша, не удерживай его! — крикнула Салямуте. — Пусть бежит куда хочет… Велика важность, жалеть не станем. Найдутся женихи и без него.
— Может, и не найдутся, — топтался у двери Пятнюнас. — Как аукнется, так и откликнется.
— Ну, и иди себе, чего порог вытирать.
— Может, и правда, — добавил Пятнюнас, все еще не решаясь взяться за дверную ручку.
— Салямуте, ты обожди, — успокаивала мать свою дочь. — Чего кричишь на человека? Другой бы на его месте шею тебе свернул за такое дело, а он… Зла тебе не желает, по глазам вижу. А ты тоже хорош, — повернулась она к Пятнюнасу, — соблазнил мою доченьку, обманул, на позор выставил, куда я ее теперь дену?
— Кто кого соблазнил — это еще надвое, а кто обманул — только не я. Когда Салямуте — свое, а Повилёкас — свое, так чего вам от меня надо? Не выходит, как говорится.
— Думаешь, ты мне нужен? — накинулась на него Салямуте. — Я на тебя, дурака, и глядеть не желаю.
— Прощай, Салямуте, когда так…
— Вовсе ты мне, болван, не нужен!
— Салямуте! — крикнула старуха. — Или ошалела?
Пятнюнас отвернулся от двери, постоял, помолчал.
— Может, не станешь ругаться, Салямуте, — сказал тихо. — Когда не нужен, тогда чего цеплялась, проходу не давала? Зачем золотые показывала?
— Потому что земля у тебя есть, избенка есть, — поясняла разъяренная Салямуте, — а ты, болван, совсем мне не нужен. Обожди, куда бежишь сломя голову? — крикнула она, увидев, что Пятнюнас не на шутку собирается уходить.
— Истинно так, я тоже скажу, — вмешалась старуха. — Разве мы голяки, нищие какие-нибудь, сохрани бог? Две дойные коровы отдаю в приданое Салямуте, телку еще вдобавок, лошадь с упряжкой, а что там в сундуке — и не говорю уж. Где тебе теплее будет — сам подумай. Проживете и без золотых.
— Да ведь золото, может, золотом и останется, оно не сдохнет, не сгорит…
Начался долгий торг. Старухе, видать, очень хотелось навязать Салямуте Пятнюнасу, поэтому она перечисляла всякое добро из приданого, доказывала, какую великую выгоду получит Пятнюнас, взяв молодицу в своей же деревне, под боком, сызмала известную, знакомую, с которой столько раз танцевал на вечеринках, с гуляний вместе ходили. Пятнюнас отмахивался у двери, твердил, что не ахти какая слава жениться в своей деревне. Наконец снова выложил свой козырь:
— Какой меркой ни мерь, а того, что в рогожке было, не смеришь.
Замолчала Салямуте, замолчала и старуха.
Пятнюнас укоризненно продолжал:
— Хоть бы еще я не говорил, не учил. Отдай, говорю, мне, не бабьим рукам золотые удержать. Отдай, говорю, спрячу так, что собаки во всей волости не разнюхают. Послушалась меня Салямуте, сделала по-моему? Чего мне теперь слушаться? Не приходится…
Отворил дверь, перешагнул порог, потом опять вернулся, подошел к Салямуте.
— А кольцо-то верни, — промолвил, протягивая руку.
Побледнела Салямуте, подняла голову, смотрела на своего возлюбленного выпучив глаза, не веря, что все кончено, что не будет никакой свадьбы, что станет она для всех посмешищем и, оставшись ни с чем, в позоре доживет свой век.
— Кольцо-то золотое, — оправдывался Пятнюнас. — Пудов двенадцать ржи за него отсыпал. Зачем ему пропадать? Найду другую — опять покупай? Сама подумай, не приходится так…
Сняла Салямуте кольцо с пальца, бросила Пятнюнасу в лицо:
— Чтоб тебе подавиться! Чтоб ты по дороге к венцу повывихивал свои кривые ноги! Чтоб твою кобылу хорьки заездили, а ты сам, ты… ты… шею свернул в болоте!
Ее начало душить. Упала ничком на кровать, уткнулась в подушку и горько заплакала. Пятнюнас старательно завязал кольцо в уголок платка, спрятал в карман и, никем не останавливаемый, вышел, плотно затворив за собой дверь.
— Бог тебя наказывает, — прослезилась старуха. — Бог наказывает, Салямуте. Хотела одна всем завладеть, у меня, у братьев украсть, а бог видит, бог иначе судит, он не допускает несправедливости. Раз не всем, то и тебе нет…
— Черт судит, не бог, — всхлипывала Салямуте на кровати. — Погоди, доберусь как-нибудь до этого Повилёкаса, отрыгнутся ему мои золотые.
Хлопнула дверь горницы, вошел Казимерас, грозно взглянул на мать, на Салямуте:
— Значит, верно?
— Что, сынок? — засопела старуха носом.
— Состарилась ты, мамаша, а врать как следует не научилась — словно воровка, отводишь глаза. Постыдилась бы детей. Одно я тебе скажу: нынче же начинаем делиться!
— Сынок, сынок…
— Довольно! По милости Салямуте Повилёкас уже отделился, — злобно усмехаясь, сказал Казимерас. — Остались мы трое и ты, стало быть, на четыре части и будем все рубить. Чего уж лучше?
— Не дам хозяйство разбивать! Пеликсюкас, вечный ему покой, сказал… — начала было старуха.
Но Казимерас не дал ей кончить.
— Поглядим! — сказал он твердо.
Хлопнул дверью, вышел.
Посреди двора трудились старая Дирдене и Юозёкас, ухватившись за старое тележное колесо. Юозёкас, стараясь вырвать колесо, изо всех сил отталкивал мать и перехватывал обеими руками обод. Старуха и не думала отдавать, пыхтя, тянула к себе, увертываясь от ударов Юозёкаса, и тоже перехватывала обод обеими руками. Колесо вертелось в их руках, и они сами вертелись вокруг него друг за другом и, вертясь, то добирались через двор до клети, то опять оказывались у хлевов. Оба стонали, пыхтели, не имея возможности ни перевести дух, ни отереть пот. Только и слышалось:
— Пусти… уфф… отдай… уфф…
— Ффу-у… сама пусти… ффу-у… отдай.
У ворот стояло несколько соседей… Из ближних садов высовывали головы ребятишки. Глядели и бабы со своих порогов. По всей деревне неслась веселая весть:
— Дирды делятся! Мамаша с Юозёкасом схватилась!
Кто может спокойно выслушать такую новость? Кто в деревне не прибежит поглядеть на редкое зрелище?
И шли многие, если не все. Отрывались от работы, бросив дела, забыв все беды и заботы. Это ли на уме?
Дирды делятся!
На три части раскололся дом. Потому на три, что старуха держалась за Салямуте, ей доверила свою старость, вместе они складывали свое добро. А перед ними стояли оба сына: один — женатый, занявший избу, другой — озлобленный, тяготившийся участью холостяка. Оба несговорчивые, неуступчивые, нетерпимые. Поэтому с утра до вечера на нашем дворе стоял галдеж. Никто ничего не делал, все только высматривали по углам, проверяли, сколько и чего нажито, куда и что положено, как положено, почему положено. А так как один другому и на волос не доверяли, то пригласили, навели всяких свидетелей — всё из людей свободных, праздных, потому что пришла пора косьбы яровых и разумные хозяева работали на полях, заранее отмахиваясь от неприятной канители. Старшим среди свидетелей был, конечно, Прошкус. После избиения Ализаса он чувствовал себя здесь как в собственном доме, пользовался кое-какими выгодами и даже пробовал покрикивать. Раскол семьи был для него сущим праздником. Всюду он был впереди, везде совал нос, всех вел за собой, а пуще всего норовил присесть к столу, набить рот сыром, колбасой. Не чурался он и рюмки, подавая пример другим свидетелям. Поэтому наша изба шумела, как потревоженное осиное гнездо, наполнилась семейной грызней и песнями свидетелей.